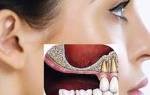Психиатрия изучает душевные расстройства, занимается их профилактикой и лечением. Человек проходит психиатра по настоянию родственников, по рекомендации терапевта, психолога, невропатолога. Зачастую такой пациент попадает на первый прием с устойчивой психопатологией, от которой страдает внимание, память, речь, социальный статус. Другая причина посещения психиатра — освидетельствование для справок, выдача заключений.
Депрессия или шизофрения?
Во время ставших крайне редкими встреч вы замечаете, что он не особенно следит за своей внешностью, не проявляет интереса даже к тому, что прежде его очень увлекало. Речь его стала несколько бессвязной, он заговаривается, как-то совсем уж нелогично перескакивает с темы на тему. А главное – замыкается в себе и старается свести к минимуму все контакты. Вы начинаете паниковать, и это вполне понятная реакция. Ваш близкий человек явно болен. Но чем? Часто такое состояние называют депрессией. Так ли это? Отвечает санкт-петербургский психиатр Игорь Аносов.
– Как правило, это не депрессивное расстройство, а расстройство шизофренического спектра. Обычно родственники пытаются такого человека уговаривать, заставлять, плачут под дверью и тому подобное – вот это главная ошибка. Потому, что основной симптом расстройств шизофренического спектра – негативизм.
К людям, страдающим такими расстройствами, можно подходить только окольными путями: «Может быть, попробуем вот так?» Любая попытка говорить «в лоб» бессмысленна – чем сильнее воздействие на таких людей («надо», «должен»), тем сильнее противодействие.
К шизофреническим расстройствам желательно быть готовыми заранее. Остро такие состояния развиваются не более, чем в 10 процентах случаев. А поначалу эти расстройства нередко воспринимаются, как «милые чудачества».
Человек начинает говорить отдельные странные слова, становится несколько более замкнутым, высказывает какие-то идеи поначалу даже не явно бредовые, но необычные – у него появляется склонность к резонерству. Наиболее знакомый нам «нормальный» вариант резонерства – пьяные разговоры одновременно обо всем и ни о чем, но человек начинает говорить так в трезвом виде.
Далее человек потихоньку уходит в себя. Некоторые при этом употребляют алкоголь, реже – наркотики. Вот тогда и нужно обращаться к специалисту, пока пациент еще идет на контакт. Но, повторяю, не действовать «в лоб» – это с ним уже не пройдет.
Если же дошло до такого состояния, когда человек, например, заперся в квартире, не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь, то здесь уже ситуация патовая.
Согласно закону о психиатрической помощи, какие-либо принудительные действия в отношении такого больного возможны, только если доказано, что он представляет опасность для окружающих или для себя самого. Если он сидит дома, у него есть еда и основные блага цивилизации, с юридической точки зрения он для себя не опасен – он просто не хочет никого видеть.
Конечно, родственникам тут надо быть очень внимательными – такой человек становится непрогнозируемым. Например, он может в болезненном состоянии подписать кому-то дарственную на свою квартиру. Если он еще и алкоголизируется, то из него вообще «веревки вить» можно. Поэтому родственникам лучше консультироваться не только с психиатром, но и с юристом.
Юридически это очень сложный вопрос. В результате и мне приходится с такими больными непросто. Ведь полицию привлекать вроде нет причин – человек никого не трогает. Отследить с кем он общается – тут хоть частного детектива нанимай. А потом, ну отследим мы, и что? Он свободный человек.
Если он в бреду, то это еще надо доказать. А иногда даже судебно-психиатрическая экспертиза не может доказать, что человек в тот или иной момент времени был невменяем. То есть, эксперты могут сказать, что, да, у него есть диагнозы – шизофрения, паранойя, да, у него бывают бредовые состояния, но не могут доказать, что человек находился в невменяемом состоянии, подписывая документы.
Так что повторяю: ситуация патовая. Но пат – все-таки не проигрыш.
Несколько советов от врача-психотерапевта
- Качество лечения напрямую связано с соблюдением всех рекомендаций. Курс терапии будет долгим, необходимо набраться терпения. Прием психотерапевта в Москве не заканчивается несколькими посещениями, особенно в случаях медикаментозной терапии. Каждый организм индивидуален, как и реакция на те, или иные препараты. К тому же эффект от лекарств проявляется не сразу, их действие замедленно и имеет накопительный эффект.
- В случае медикаментозного лечения нужно дождаться положительного результата и только после этого начинать психотерапию. Иначе она не принесет желаемого эффекта. На протяжении всего курса периодическое посещение врача является обязательным, который будет контролировать, корректировать и следить за правильностью выполнения всех предписаний.
- Помните, что ответственность за успех распределяется поровну между врачом и пациентом. Если первый несет ответственность за свою квалификацию, качество назначенного лечения, то второй отвечает за соблюдение всех предписаний и степень своего доверия доктору.
- Исцеление от наркомании и алкоголизма является долгим, кропотливым и ежедневным процессом, который не все проходят до конца. Очень тяжело и важно изменить не только диету, но и образ жизни, привычки. Именно поэтому необходимо записаться на прием к психотерапевту, который способен помочь человеку справиться со всеми психологическими и физическими трудностями.
В танке
Фото с сайта thepassengertimes.com – Вы сказали, что явление, о котором мы говорим – не депрессия. А для какой-то формы депрессии апатия характерна?
– Да. Есть такое понятие: шизоаффективное расстройство. Это расстройство характеризуется бредом и какими-то аффективными проявлениями. И это расстройство может быть с депрессивным компонентом – тогда оно тоже может привести к тому, что человек замыкается.
Но депрессия человеку всегда неприятна. А это уже мотивация для того, чтобы обращаться за помощью к близким людям или к врачу. Депрессивный не прячется. Поэтому случаи депрессии более курабельны. Больной сам тянется к врачу: «Доктор, помогите!»
А вот шизоидному больному никто не нужен. Он в танке, в скорлупе и смотрит на мир через амбразуру. Если раньше он был общительным, то и через эту амбразуру будет общаться, будет тянуться наружу. А если у него негативный бред, негативные переживания, то, конечно, через эту амбразуру он будет разве что просить денег или, например, сигареты.
Те, кто склонны к алкоголизации, будут просит выпить. Но, кстати, среди шизофреников склонность к алкоголизации – редкость, большинству из них и так хорошо внутри. Вот склонность к алкоголизации у страдающих депрессией – где-то 50 на 50, в зависимости от склада личности.
Ведь алкоголь – это могучий стабилизатор настроения. Выпил – вроде как получше стало. И у людей, страдающих депрессией, в подавляющем большинстве случаев алкоголизм носит запойный характер.
Меня несколько расстраивает, что и в России, и в других странах принято выделять алкоголизм и другие злоупотребления психоактивными веществами в отдельные заболевания.
Нет никакого алкоголизма в чистом виде. Алкоголизм – это всегда надстройка. Базис – это депрессия или обсессивно-компульсивное невротическое расстройство, то есть какое-то аффективное нарушение, которое человек пытается лечить алкоголем.
В «желтой прессе» много кричали про ген алкоголизма. Но покажите мне этот ген! Вот как раз то, что я назвал базисом, может передаваться и генетически.
С какими проблемами обращаются к психотерапевту?
Нередко люди не понимают, что такое психотерапия и зачем нужен приём психотерапевта. Некоторые мужчины и женщины стесняются обратиться за помощью, другие – не осознают своей проблемы. Иногда пациента приводят на приём психотерапевта родственники или близкие люди. Последняя ситуация часто наблюдается при различных зависимостях. Перечень того, что лечит психотерапевт велик. К основным недугам относятся:
- Неврозы
- Последствия психической травмы
- Депрессивные состояния
- Перенапряжение
- Хроническая усталость
- Истощение нервной системы
- Повышенная тревожность
- Страхи и фобии
- Панические состояния
- Вредные привычки и зависимости
- Эмоциональные срывы
- Конфликты на работе
- Необоснованная раздражительность
- Синдром самозванца
- Одиночество
- Навязчивые мысли
- Сложности в отношениях
- Зависимость от родителей
- Выгорание на работе
Психотерапия в нашей клинике помогает человеку «разобраться в себе», укрепить свои внутренние силы и избавиться от душевных травм. Пациент начинает жить в гармонии с самим собой и окружающем миром.
Методы психотерапии также применяются в комплексном лечении соматических заболеваний, так как последние часто возникают на фоне психоэмоциональных расстройств. В частности, нервное истощение приводит к ухудшению работы иммунной системы и возникновению сопутствующих болезней. Поэтому при сильных эмоциональных потрясениях, неврозах и хронических стрессах человеку крайне необходима консультация психотерапевта.
Может, покажемся?
Изображение с сайта animallegra.altervista.org – В каких ситуациях родственники должны насторожиться? Какие профилактические меры они могут принимать?
– Есть люди, склонные к размышлениям, к философии. Но, как правило, если это мои потенциальные пациенты, то они вдобавок слабо социализированы, большинство из них давно не трудоустроены, то есть они перебиваются случайными заработками или вообще субсидируются родственниками.
Если даже кто-то из них и имеет постоянную работу, то это либо какой-нибудь необременительный фриланс (например, написание простеньких компьютерных программ, редактирование текстов в интернете). От контактов со мной многие из них уклоняются («Не надо мне ничего такого, мне хорошо»).
И у подавляющего большинства таких людей ситуация складывается так, что ко мне приходят их родственники с вопросом: «Что делать? Он заперся, с нами не общается и вообще ни с кем не общается, не выходит из дома». Но тут что можно посоветовать?
Как я уже говорил, ни в коем случае не лезть к человеку слишком «в лоб». Все расстройства шизофренического спектра имеют три признака: негативизм, аутичное поведение, расстройство мышления, характеризующееся резонерством и паралогичностью.
Если человек раньше наблюдался у психиатра, нужно поставить специалиста в известность о происходящем. Потому, что лечащий врач уже знает человека и может лучше сориентироваться в ситуации. У каждого есть своя «изюминка», чем-то пациента зацепить можно, хотя и не всегда.
Если человек ни разу до этого к психиатру не обращался, нужно постараться осторожно предложить ему к специалисту сходить. Лучше использовать вопросы: «Может, попробуем? Может, покажемся?» То есть ни в коем случае не давить. Если это не помогает, получается самый скользкий вариант, когда приходится контактировать с правоохранительными или с судебными органами.
Ведь некоторые пациенты не только замыкаются в себе, но и перестают ухаживать за собой, отказываются от еды. Тот, у кого не просто шизофреническое, но шизоаффективное расстройство (то есть для него вдобавок к перечисленной триаде признаков характерны еще и перепады настроения) вообще не прогнозируем.
Он может растормозиться и уйти в манию (когда в приступе веселья можно кого-то и ударить, переломать мебель), а может впасть в депрессивное расстройство, которое при шизоаффективном варианте, нередко, ведет к суициду.
– Но в таком случае это уже юридическая проблема, причем с неясными алгоритмами.
– Не просто неясными… Этих алгоритмов нет. Приходится ждать каких-то опасных действий человека, чтобы решить вопрос о недобровольном его лечении. То есть это доказанные действия, опасные для окружающих и для него самого.
Например, человек пятые сутки отказывается от еды, включает газ так, что соседи жалуются на запах, конфликтует, используя угрозы. Желательно тогда, чтобы было заведено хотя бы административное, а лучше уголовное дело – тогда и у психиатра появляется больше возможностей.
Но бывает очень сложно доказать какие-то действия человека, например, факт отказа от еды или то, что человек держит дома веревку, на которой думает повеситься. Только если человек сам это продемонстрирует другим. Но демонстративные действия характерны не для шизофреника, а для психопата, который такими способами привлекает к себе внимание окружающих.
Доигрались до театра
Кстати, из таких мини-сценок, регулярно разыгрываемых на занятиях с психологом, год назад в отделении родился… театр. «Это наше ноу-хау. Предложили его организовать сами пациенты, — говорит Инна. — Театр психологического этюда — проигрываем разные жизненные истории, психологические проблемы. Пациенты сами пишут сценарии, сами играют, а теперь даже снимать стали на видео. Через театральные занятия прошло уже около 40 человек. Кто-то пролечился и ушел. Кто-то устроился на работу. Были и такие, кто попробовал — не понравилось. Но костяк — 24 человека — сдружились. Общаются и вне диспансера, в гости друг к другу ходят, дни рождения празднуют. И не поверишь, что это были люди, вырванные болезнью из жизни».
Из этой группы самых активных половина за последний год ни разу не ложились в стационар — не было обострений болезни. Семеро устроились на работу. «А четверых сейчас устраиваем на учебу — в колледжи. Такой вот результат», — говорит Инна Звягельская.
У меня ребеночек – просто чудо
Фото с сайта nashpiter.livejournal.com – Для родственников и друзей такого человека лучше перестраховаться? Ведь слово «шизофрения» звучит для многих пугающе. И порой люди не хотят сами себе признаваться, что ситуация опасная.
– Я никогда не советую напрягаться, нагнетать обстановку. Но есть разумная настороженность. Вот, например, я – спокойный человек. Но если я еду на автомобиле и вижу, что передо мной кто-то начинает вести себя на дороге неадекватно, я лучше приторможу и отпущу его вперед. Я его боюсь? Нет. Нагнетаю обстановку? Нет. Просто не хочу неприятностей.
Вы выходите на перекресток – загорелся красный свет. Вы не пойдете на красный или пойдете после того, как убедитесь, что на дороге нет машин. Значит ли это, что вы боитесь красного света? Нет. Просто вы тоже не хотите неприятностей.
Точно так же и в случае с подозрением на шизофрению. Не надо нагнетать, не надо, как я уже говорил, в панике хватать человека и кричать: «Пошли лечиться». Но надо просто проявить больше внимания. Тем более, что такие ситуации не случаются резко.
Разные странности – это даже не первая фаза. Начинается все с трудностей в социализации, в общении, в адаптации в новых условиях.
Когда родители меня спрашивают, когда начинать оценивать состояние человека, я говорю: «С раннего детства».
Многие родители моих пациентов поначалу хвалят своих детей за что? За то, что «все дети – хулиганы, разбрасывают игрушки, бегают, как заведенные, а вот у меня ребеночек – просто чудо: у него все игрушки разложены в порядке, он сидит тихо, рисует в тетрадках, причем тетрадки не рвет, все вещи складывает аккуратно». Вот тогда надо ребенка хватать и бежать с ним сначала к психологу, а потом, может быть, и к психиатру.
Потому, что это симптом ранней шизоидизации. Но это еще не значит, что человек вырастет шизофреником. Он может вырасти писателем, философом или математиком. Ведь воспитание ребенка должно соответствовать его личностным особенностям.
Человек, воспитанный на добре, на взаимопонимании, даже если у него когда-то и «дебютнет» шизофрения, скорее проявит себя хорошо. И его шизофрения не потребует каких-то недобровольных мер. Немаловажно, что у таких людей часто есть критическое отношение к своему состоянию.
Почему некоторые больные в бреду или прячутся, или проявляют агрессию? Потому, что у них бред страшный. Видя на улице некоторых мамочек с детьми, хочется подойти и сказать: «Мамочка! Он же тебе через 10 лет этими же словами и ответит». Когда мама кричит ребенку: «Ты, скотина! Иди сюда, я сказала! А дома еще настучу тебе!»
Представьте, что у человека, выросшего в таких условиях, разовьется бредовое расстройство. У него будет страшный характер бреда. И кто у него в первую очередь будет врагом? Мама.
И либо он от нее отгородится, либо начнет проявлять по отношению к ней агрессию. Так что профилактика опасных состояний должна начинаться до рождения ребенка. Во-первых, ребенок должен быть желанным. Во-вторых, доказано: ребенок еще в утробе все воспринимает, по крайней мере, на эмоциональном уровне. В-третьих, и некоторое время после рождения ребенок еще не понимает ничего, но запоминает все, в том числе, как родители ругаются при нем, пьянствуют и тому подобное.
Человек никогда ничего не забывает, даже если он и не может многое извлечь из своей памяти.
Куда обращаться за помощью
В настоящее время все больше людей нуждаются в услугах психиатра. По статистике, психические расстройства располагаются на третьем месте по распространенности после онкологических и сердечных заболеваний.
Такие больные могут обратиться за психиатрической помощью в психоневрологический диспансер. Его посещают люди 2 категорий:
- с хроническими расстройствами, состоящие на диспансерном учете;
- нуждающиеся в консультации и первичном осмотре.
Врач-психиатр также принимает в городской поликлинике. На его двери можно увидеть надпись «Психоневролог», что воспринимается пациентами не так драматично и удручающе.
Те люди, которые по ряду причин не могут обратиться в госучреждение за психиатрической помощью, выбирают частные центры и клиники. На сегодняшний день в каждом городе их существует великое множество, и ряд из них функционируют уже довольно длительное время.
Так, Московский Городской Психоэндокринологический Центр, основанный профессором А.И. Белкиным, предоставляет свои услуги всем нуждающимся уже более 30 лет. В его команде – высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы и высокими профессиональными навыками.
Работа врачей – психиатров центра основана на установленных правилах, которые обязаны поддерживать все подобные специалисты во всем мире:
- индивидуальный подход к клиенту. И, соответственно, выбор метода лечения согласно его особенностям протекания болезни и физиологического состояния организма;
- полная конфиденциальность в вопросах распространения информации. Посторонние люди не могут получить сведения о заболевании пациента без его согласия или без одобрения родственников;
- проявление внимания и сопереживания к клиенту;
- использование современных технологий в диагностике и лечении психических расстройств;
- использование минимального количества медикаментов;
- систематическое повышение квалификации специалистов, обмен опытом на научных конференциях международного и местного масштаба;
- работа с родственниками;
- расшифровка анализов.
Чаще всего больные получают психиатрическую помощь, являясь на прием лично. Но в настоящее время набирает распространение такая услуга, как консультация психиатра онлайн.
Данный метод позволяет помочь тем людям, которые находятся далеко от месторасположения определенного учреждения и не имеют возможности или времени посетить его лично.
Помощь психиатра онлайн полезна индивидам, находящимся в смятении и испытывающим неудобство или стыд при личном контакте с доктором. Виртуальный метод общения позволяет таким людям чувствовать себя более раскрепощенными и открытыми. Они в более полной мере способны изложить свою проблему, и далее, возможно, уже будут готовы на непосредственное общение.
Консультация онлайн может проходить в нескольких режимах. Например, в виде беседы в процессе переписки. Или же пациент задает интересующий вопрос, а специалист через некоторое время дает развернутый ответ по теме.
Но самый предпочтительный и действенный способ – это живая беседа. Часто она осуществляется посредством скайпа. Это позволяет максимально приблизить виртуальное общение к живому.
Человек, воспитанный в любви
Человек, воспитанный в любви, в ласке, во взаимопонимании, даже если у него разовьется бредовый синдром, выдаст, например, какие-то произведения искусства. И такой человек даже если и погружен в себя, то все-таки наружу выглядывает, потому, что и внешний мир, для него интересен и желанен.
Мне приходится наблюдать таких больных, но, к сожалению, их очень мало среди моих пациентов. Очень мало у нас благополучных семей. И большинство моих пациентов такого типа бред побуждает либо проявлять агрессию, либо уединяться.
– Вы говорите, что с такими людьми нельзя действовать слишком прямолинейно. А какие варианты подходов к ним могут быть?
– Это очень индивидуально. Был, например, у меня случай: парень 5 лет ко мне отказывался приходить, 5 лет его родственники за него переживали, при этом продолжали содержать. Все 5 лет я им рекомендовал: «Урежьте его содержание до минимума». Но вообще, это относительно рискованный жест, потому что иногда наши пациенты идут на принцип – опять-таки по бредовым мотивам.
Но попробовать можно. Тем более, если человек идет на принцип и при отсутствии денег просто перестает есть, можно уже пытаться прибегать к недобровольным мерам воздействия.
А вот этот мой пациент (ему сейчас 23 года) как раз на это клюнул. Но ему не просто урезали содержание, ему терпеливо объясняли: «Ты нас посылаешь, ты не хочешь общаться. Почему мы тогда должны тебя кормить-поить? Иди работай».
Он посидел, посидел и в один прекрасный день самостоятельно приехал ко мне на прием. Постепенно разговорились, потихонечку начал рассказывать, что его беспокоит, что ему, наоборот, приятно. В результате выяснилось, что да, ему комфортно быть одному, когда его никто не трогает, но у него вечерами возникает тревога, у него нарушение сна.
Я предложил самую легкую лекарственную терапию – у меня принцип такой: сначала предлагать что-то наименее травматичное, и только если это не поможет, смотреть, что дальше.
И на минимальных дозах парень стал ходить ко мне, отметил, что улучшилось настроение, появилось желание общаться. Сейчас у него есть несложная работа, но курьером – то есть он постоянно на людях, ездит на общественном транспорте. А поначалу уговорить его зайти в метро было нереально.
Это тот случай, когда ограничения на больного подействовали. И, даже вводя ограничения, нужно говорить с человеком спокойно, доброжелательно. Но универсальный совет на все случаи есть только один – ни в коем случае на человека не давить, предлагать ему обратиться к врачу в ненавязчивой форме.
Это, пожалуй, единственное, что нужно сделать до консультации с врачом. А дальше, если больной не соглашается, родственники приходят ко мне без него, и я долго спрашиваю их о том, как человек общался, какие у него были склонности, как он на что реагировал. И вот на основании такого вороха информации я могу дать один-два совета, и то приблизительных.
Изображение с сайта princessmaggiemor.blogspot.ru
– А если больной экономически независим?
– В принципе действовать нужно так же. Но если у человека есть какая-то устраивающая его работа, если он не опасен для себя и для окружающих, а просто не хочет общаться с родственниками, значит, меньше вероятности, что он, например, продаст свою квартиру – она ему нужна. Вопрос: имеем ли мы моральное право что-то с ним делать?
Если же есть опасения, то на это есть мы – я и мои коллеги. Правда, не каждый психиатр согласится на такую беседу. По закону, любая беседа родственников пациента с психиатром возможна только при наличии письменного согласия пациента.
Но если родственники приходят к психиатру, не имея такого документа, и говорят о своей проблеме, не называя ни своих имен, ни имени больного, ни его адреса, то есть просто спрашивают: «Что делать, если вот так и так?», то в этом нет криминала. Единственно, что я в таком случае не имею права спрашивать паспортные данные. А в совете людям не отказываю.
– Для родственников человека, который стал вот так замыкаться в себе, правильнее обращаться сразу к психиатру? Или сначала к психологу?
– Это не принципиально. Ведь в таких ситуациях и ко мне поначалу люди обращаются практически, как к психологу. Врачом я становлюсь для их родственника только тогда, когда начинаю назначать какие-то методы лечения. Ведь кто такой психолог? Это, в первую очередь, диагност.
Выбор психотерапевта
Выбор нужного врача-психотерапевта зависит от той задачи, которую вы ставите, ваших личностных психологических особенностей, а также от того или иного метода психотерапии.
С помощью психотерапевтических приемов можно решать самые различные задачи.
- «Утешительная» психотерапия бывает нужной в самом начале лечения, когда пациент неадекватен, убит горем, пережил катастрофу или получил значительную психотравму. Она направлена на получение утешения и внимания. Обычно оказывается психотерапевтом бесплатно или по установленным символичным ценам.
- Директивная психотерапия подходит людям, не способным к самостоятельной активности в силу слабости, загруженности лекарствами или особенностей характера. К таким методам помощи относятся классический психоанализ, гипноз, НЛП, различные виды эмоционально-стрессовой психотерапии, аффирмации, дидактические группы, «уникальные авторские наработки». Это наиболее востребованная услуга и самая высокая по стоимости. После приема в кабинете авторитетного психотерапевта вы получите совет или внушение, как вести себя дальше и вообще жить.
- Консультативная психотерапия, которую трудно назвать терапией в классическом понимании, представляет собой непосредственно лечение. Здесь пациент и психотерапевт выступают на равных, нет родительского нравоучения и строгих правил. Это единственный подход во всей медицинской практике, где главный и самый активный участник терапии — сам обратившийся за медицинской помощью человек.
Ваши личностные особенности, ключевые взгляды на жизнь и отношения должны быть полностью ясны доктору. Скрывать ничего нельзя, даже самый не приятный факт. Иначе «язык», на котором вы станете общаться, будет не понятен. Знание своей акцентуации характера, темперамента, соционического типа и эмоционального тона поможет вам сориентироваться. Пройти консультацию психотерапевта и выяснить свои особенности характера вы можете на приеме у нашего специалиста. На приеме у психотерапевта не нужно бояться осуждений или критики с его стороны. Хороший специалист всегда стоит на стороне пациента и сможет предложить наиболее правильный выход из ситуации.
Почему нужна консультация психотерапевта
Российским фондом защиты прав потребителей Клиника Преображение признана лучшей в России
Бывают ситуации, когда человек, внешне абсолютно здоровый, нуждается в консультации психотерапевта. Дело в том, что душевные расстройства не всегда видны окружающим. Если вы заметили у себя один или несколько перечисленных ниже признаков, стоит показаться врачу:
- повышенная утомляемость;
- нарушения сна;
- повышенная возбудимость и вспыльчивость;
- депрессивные расстройства и апатия;
- чрезмерная застенчивость;
- пониженная самооценка;
- постоянное чувство внутреннего напряжения;
- личностные проблемы;
- непрекращающиеся навязчивые идеи;
- неудовлетворенность;
- обостренный перфекционизм;
- неуверенность в себе;
- сексуальные и семейные проблемы;
- страхи;
- синдром хронической усталости;
- непредсказуемые колебания настроения.
Это далеко не полный перечень проблем, для решения которых требуется прием психотерапевта. Если вы чувствуете, что не в силах справиться самостоятельно, обратитесь к профессионалам.
Не бойтесь психиатра
Изображение с сайта blandina-arts.com – Многие боятся обращаться к психиатру…
– Первый аргумент, оправдывающий эту боязнь: «Что я, дурак? Сумасшедший?» Контраргумент: когда человек уже стал сумасшедшим, обращаться к психиатру не бессмысленно, но поздно. В этом случае уже действительно назначается массивная терапия, резко снижающая качество жизни пациента, приходится пациента госпитализировать и так далее.
К психиатру надо обращаться не потому, что уже сошел с ума, а для того, чтобы не сойти с ума.
Второй аргумент тех, кто боится обращаться к психиатрам – это боязнь лекарственной терапии. К сожалению, на сегодняшний день, как минимум в половине случаев лекарственная терапия нужна. Многие наблюдали или лично, или на видеозаписях в интернете тех, кто находится на массивной терапии или находились на ней тогда, когда не было современных препаратов.
Раньше не было атипичных нейролептиков или таких антидепрессантов, которые есть теперь, и пациентов «глушили» галоперидолом и аминазином. Это действительно картинка жутковатая, но, повторяю, часто вынужденная. Запущенный психоз либо успокаивают всеми средствами, либо человек творит что-то совсем уж нехорошее.
Как автомобиль – если вы его довели до того, что он сыпется, он в итоге взорвется. Иногда и теперь приходится держать людей на громадных дозах нейролептиков, но иначе нельзя, потому что без этих препаратов они становятся агрессивными, опасными для окружающих.
В XXI веке в нашем спектре появились новые препараты, обладающие высокой избирательностью действия, которые во многих случаях при минимальном количестве побочных эффектов дают достаточно стойкий выраженный эффект и которые, если человек обратился вовремя, во многих случаях не требуется принимать очень длительный период времени.
В тех же случаях, когда при своевременном обращении пациента выясняется, что принимать лекарства ему придется долго или даже всю жизнь, надо понимать, что это мягкие препараты – малотоксичные и не снижающие качества жизни. То есть эти препараты, например, не снижают трудоспособность пациента, не «сушат мозги» – не снижают когнитивную функцию, как те же аминазин, галоперидол и тому подобные.
Так что здесь приходится выбирать: полечиться мягкими препаратами или в конце концов попасть на недобровольную госпитализацию, где человека будут купировать большими дозами неселективных нейролептиков, потому что в этой ситуации другие уже не сработают, а потом придется долгое время «сидеть» на поддерживающей терапии.
И когда человек приходит к нам еще компенсированным, с еще не угасшими социальными функциями и так далее, то процентах в 20 случаев мы обходимся препаратами, которые даже химией не назвать. А если даже мы решаем применить чуть более серьезные препараты, то начинаем мы с минимальных, чуть ли не гомеопатических доз.
Точно так же и родственники, в основном родители часто говорят: «Как же это я отведу свое чадо к психиатру? Он же его в дурдом сдаст». Причем так говорят даже люди образованные.
Приходится долго людям объяснять: основная задача психиатра амбулаторной службы – не допустить того, чтобы человек попал в психиатрическую больницу, сделать все возможное для того, чтобы человек получил амбулаторное лечение и при этом остался нормально социализирован.
Еще одна задача психиатра: потратить на пациента как можно меньше лекарств – это я опять-таки говорю и как врач, не считающий нужным перегружать пациента препаратами, и как государственный служащий. А такая жалость родственников, боящихся психиатров, выходит больным людям боком.
С другой стороны, бывает, что человек все-таки пришел ко мне по просьбе родственников, я начинаю с ним работать, и выясняется: да, у него есть расстройство шизофренического спектра, манифестного состояния как такового нет, опасности человек не представляет – ему просто хорошо жить так, как он живет.
Он сидит, что-то смотрит в компьютере или читает книжки, он ест, у него нет суицидальных наклонностей, а родственники добрые и едой его снабжают. И больше ему ничего не надо. Но настороженность в таком случае нужна обязательно.
Штучная работа
Сергей Ветошкин, психиатр
Главная наша цель — добиться, чтобы состояние психически нездорового человека улучшилось и было стабильным, чтобы снизить риск госпитализаций с обострениями или ухудшением в психиатрический стационар. То есть наши пациенты должны уметь жить самостоятельно, обслуживать себя — это задача-минимум. А задача максимум — социализировать человека настолько, чтобы он мог работать и жить обычной жизнью. Отделение работает по полипрофессиональному принципу: в реабилитационной работе задействованы психиатр, психотерапевт, психолог, социальный работник. К каждому пациенту подход индивидуальный, или как сейчас модно говорить, персонифицированный. Помочь можно всегда, другое дело, что больные, их родные не всегда об этом знают. Мы задались целью заполнить этот информационный вакуум, просмотрели наш Рунет, и поняли: доступной информации по психореабилитации мало, она разрозненная. Так родилась идея сделать удобный и наглядный сайт, где можно увидеть и наши методы работы, и результаты.
Сейчас в психиатрии происходят коренные изменения модели оказания помощи. Акценты смещаются со стационарной помощи на амбулаторную. В Москве, например, из 17 психиатрических больниц осталось три, плюс клиника неврозов и детская профильная больница. Значит, надо активнее развивать альтернативные виды помощи, стационарзамещающие технологии. Но пока дневных стационаров и медико-реабилитационных отделений по типу таких, как наше, на мой взгляд, не достаточно.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»